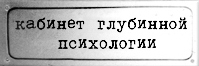В последний раз, рассуждая о славянофильстве и об отношениях его представителей к русскому дворянству, я упомянул о том, что Достоевский в своем романе «Подросток» отозвался об этом высшем сословии нашем довольно благоприятно.
Молодой герой его, незаконный сын помещика Версилова, описавши все приключения отца своего и борьбу своих собственных разнородных чувств, посылает свою рукопись в Москву, к некоему Николаю Семеновичу на прочтение.
Я старательно искал в романе фамилию этого Николая Семеновича и не нашел ее. Сказано просто (в конце): «Николай Семенович, бывший мой воспитатель в Москве, муж Марии Ивановны»… и т. д.
Возвращая эти «Записки» молодому человеку с одобрением, Николай Семенович, между прочим, пишет ему вот что:
«Замечу, кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей (т. е. подобных «подростку») можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали, впоследствии, к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое».
«И если, например, и сознавали в начале дороги всю беспорядочность и случайность свою, все отсутствие благородного в их, хотя бы семейной, обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потом сами и тем самым приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе — именно потому, что примкнуть почти не к чему».
«Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно».
«Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в «Преданиях русского семейства», и поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь
«Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю, как человек спокойный и ищущий спокойствия».
«Там — хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими, наконец, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которого вот уже двести лет все ничего не выходит».
«Не обвините в славянофильстве; это я лишь так от мизантропии, ибо тяжело на сердце! Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто, совсем обратное изображенному выше».
«Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а, напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствуюшими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети».
«Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой».
«Но все это философия; воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы описать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою. О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем».
«Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж. Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средне-высшего культурного круга в течение трех поколений кряду, и, в связи с историей русской, этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде».
«Даже он должен явиться каким-нибудь чудаком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать, как за сошедшего с поля, и убедиться, что не за ним осталось поле».
«Еще далее — и исчезнет даже и этот внук мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен, то невозможен дальнейший русский роман. Но увы! Роман ли только окажется тогда невозможным?»
………………………………………………………………………………………….
«Не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких несомненно родовых семейств, русских, с неудержимого силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе. Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да, Аркадий Макарович, вы член случайного семейства, в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших — детство и отрочество».
«Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!»
«Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по будущему?»
«Угадывать и… ошибаться».
Так говорит у Достоевского недворянин «Николай Семенович» о русском дворянстве, и автор, видимо, сочувствует ему.
Признаюсь, что при чтении «Подростка» меня поразила неожиданность этого благоприятного для дворян общего вывода из рассказа, которого подробности производили на меня отрицательное, местами даже до болезненности тягостное и отвратительное впечатление.
II
Припомним — каковы эти русские дворяне в романе «Подросток».
Это, начиная с главного героя — Версилова, все какие-то расстроенные или запутанные люди; «психозные», как нынче любят называть. Старый князь Сокольский бесхарактерен и жалок. Старший, законный сын Версилова является на минуту в очень непривлекательном виде (когда он в пунцовом халате дает деньги своему незаконному брату, не допуская его даже к себе во внутренние покои дома, и тому подобное). Молодой военный, тоже князь Сокольский, который кутит, путается и, наконец, попадает в Сибирь. Все эти лица, кажется, не таковы, чтобы располагать кого бы то ни было к политическому, так сказать, доверию. Сам Версилов — это человек совершенно исключительный. Но исключительный не в том смысле, в каком могут считаться исключительными Рудин и Лаврецкий, Печорин и Вронский; Рудин своим энтузиазмом и красноречием; Лаврецкий прямотою своих чувств и безукоризненностью; Печорин своей демонической страстностью и умом; Вронский здоровьем духа и силой воли; — нет, Версилов исключителен своей ненормальностью, своей неимоверной изломанностью, своей неестественностью. Это тоже «психопат», как почти все главные действующие лица Достоевского. Про таких людей, как Рудин и Лаврецкий, Печорин и Вронский, не только думается, что сами авторы знали их лично, но иногда читатель воображает даже, что он сам с ними был в действительной жизни знаком и близок. Не знаю, как другие, а я, по крайней мере, так чувствую, когда вспоминаю о лицах Толстого, Писемского, Тургенева, Островского, Маркевича и даже многих других, менее знаменитых писателей. Из главных же лиц Достоевского я не помню ни одного, которого я мог бы вообразить действительным знакомым моим. Все главные характеры Достоевского представляются мне вариацией почти на одну и ту же психологическую тему: вариацией чрезвычайно талантливой, конечно, но все-таки вариацией на одну и ту же весьма субъективную и болезненную тему. В этом, конечно, и сила Достоевского, сила его лиризма и субъективности; но в этом и художественная слабость его. Тургенев, Писемский, Толстой, Маркевич, Островский ясно и верно отражают русскую жизнь. Достоевский глубоко преломляет ее, сообразно своему личному устроению. По романам первых четырех писателей и по комедиям Островского иностранец, например, может весьма верно воображать себе самую действительность русскую; по романам Достоевского — он не узнает правды о самом обществе русском второй половины нашего века; он поймет только известное течение чувств и мыслей. По другим писателям можно изучать нормальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только ее психопатию, ее крайние уклонения, быть может (я говорю: быть может), а главное — можно изучать самого автора, его идеалы, его собственные душевные извороты, его собственные горести, борьбу и мечтания.
От лиц Достоевского не веет правдой жизни; от них веет только правдой собственного сердца автора, его пламенеющей искренностью. За исключением разве преступников «Мертвого дома», весьма объективно изображенных, все лица Достоевского суть в самом точном смысле слова создания его воображения. И мне, например, проживающему весьма разнообразно до 60 лет и в самых разнообразных слоях русского общества, ни одно из его лиц никого из знакомых не напоминает. Чувства знакомы, хотя и с несравненно меньшей напряженностью, и с меньшей исключительностью ухищренных изворотов; но лица не знакомы вовсе.
Поэтому я и «дворян» романа «Подросток» никак не могу считать хоть сколько-нибудь представляющими действительное дворянство русское. Ни Версилов, ни старый князь, ни офицер Сокольский, ни другие лица романа не годятся в совокупности своей в представители этого сословия; скажу больше: совокупность, составленная из таких людей, как все дворяне в романах Достоевского, не только не соответствует реальной совокупности, составленной из точно такого же числа дворян, самых лучших, самых худших и средних, взятых из действительности, но она не соответствует даже и другой, менее реальной совокупности, составленной из дворян Тургенева, Толстого, Маркевича и Писемского.
Совокупность дворян Достоевского и нереальна, и ненормальна…
Но если так, мне скажут, на что же мне было мнение Достоевского о дворянах?
Дорого мне в этом вопросе мнение Достоевского и даже очень дорого потому, что публициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно выше, чем повествователя. «Дневник писателя», не во гнев будет сказано поклонникам покойного романиста, — для меня во сто раз драгоценнее всех его романов.
Насколько мало у Достоевского в романах его и здоровья, и истинного чувства русской реальности (сравнительно с другими упомянутыми романистами нашими), настолько, напротив того, как моралист и даже иногда, как политик, — он здрав и одарен в высшей степени «чутьем» того, что для России нужно.
Я помню то наслаждение, которое я сам испытывал, читая в 70-х годах его «Дневник писателя», особенно во время борьбы христиан против Турции и во время нашей с нею войны.
Его патриотизм, столь искренний и умный; его монархическое чувство; его религиозные стремления, не всегда правильные и ясные, положим, — но всегда глубокие и сильные; этот местами столь милый юмор (например: «За границей уверяют, что наши офицеры, которые сражаются в Сербии, под начальством Черняева, — социалисты. Что за вздор, — говорит Достоевский, — выпить лишнее — это правда, русский человек слаб; ну, а социализм — это неправда»). Если цитата не точна — прошу простить. Пишу на память.
Он даже тогда предсказывал, что болгары будут неблагодарны нам. Предсказывал это и я, положим, в то же время; но ведь я прожил в Турции 10 лет и видел, что такое болгары! Мне было нетрудно это угадать. Но он, не выезжая из Петербурга, говорил это во время всеобщего увлечения славянами и являлся, таким образом, истинным прозорливцем с этой стороны.
Записки отшельникаЛеонтьев Константин Николаевич
III
Как верно понимал он (давным-давно!), что без веры, без веры православной именно, народ русский, да и вся Россия станут никуда негодными. Он не только умом и любовью понимал эту истину, но и особого рода художественным чувством. Чтобы это стало яснее, стоит только вспомнить, с какой непривычной ему объективностью изображены и в самых романах его набожные простолюдины и купцы. Хотя бы в том же «Подростке» крепостной Макар Долгорукий, номинальный отец героя; или в рассказе этого же Макара деспот-купец, который загнал мальчика в реку, а потом, раскаявшись, женился на его матери и кончил жизнь, странствуя по монастырям.
Правда, в религиозных представлениях своих Достоевский не всегда строго держался тех общеизвестных катехизических оснований, которыми руководится все восточное духовенство наше, и позволял себе переступать за пределы их, то влагая в уста русских монахов предсказания о повсеместном превращении государств в одну на земле торжествующую Восточную церковь («Братья Карамазовы»), то сам пророчествуя о какой-то непонятной и «окончательной» всеобщей «гармонии» земной жизни под влиянием некой особенной русской или славянской любви!
Его необузданное творческое воображение и пламенная сердечность его помешали ему скромно подчиняться стеснениям правильного богословия и разрывали в иных случаях его спасительные узы. Он переходил своевольно, положим, за черту общеустановленного и разрешенного, но за то он и всему тому поклонялся и все то чтил и любил, что находится по ту сторону черты. Он только прибавлял нечто свое, излишнее и неправильное; но он ничего правильного, ничего издавна иерархией освященного не только не отвергал, но и готов был всегда горой стоять за это правильное и освященное.
Мужика он любил, не потому только, что он мужик, не потому что он человек рабочий и небогатый; нет, — он любил его еще больше за то, что он русский мужик, за то, что религиозен.
Он звал русский народ «народом-богоносцем», подразумевая, вероятно, под этим словом не одних простолюдинов, но всех тех и «простых», и «непростых» русских людей, которые искренно веруют во Христа.
«Народ-богоносец» это совсем не то, что «La sainte canaille» (святая сволочь, святая толпа) французских демагогов; у них уличная толпа свята по тому самому, что она уличная толпа, бедная, угнетенная и всегда будто бы правая. У Достоевского народ хорош не потому только, что он простой народ и бедный народ, а потому, что он народ верующий, православный.
И вот, этот-то «народник» православного стиля, этот всеми инстинктами своими столь русский человек, в заключение романа, исполненного дворянских слабостей и глупостей, дворянского беспутства и дворянской непрактичности, дворянской «психопатии», наконец — говорит, что дворянство нужно и что только у одних дворян в России есть истинное чувство чести.
Вот что мне дорого!
Как он извлек это политическое нравоучение из этого именно романа, — я понять не могу.
Но даже и самое недоумение это для главной моей мысли невыгодно.
Если из «Подростка» можно нечто подобное извлечь, то тем более, я надеюсь, можно извлечь это из «Дворянского гнезда», «Рудина», из «Войны и мира», «Карениной», из «Масонов» Писемского или из «Перелома» Маркевича.
Если позволительно поставить подобный вывод в конце такой истории, где все главные дворяне изломаны, бесхарактерны и почти что ненормальны, то тем более это будет уместно по прочтении других вышеперечисленных романов, где мы встретим рядом со всякими дворянами и дворян серьезных, благородных, твердых, весьма образованных, честных и смелых, а главное — нормальных и вполне правдоподобных в изображении, почти лично знакомых каждому из нас. Глубоко верный русский инстинкт подсказал Достоевскому, что дворянство русское нужно, что нужен особый класс русских людей, более других тонкий и властный, более других рыцарственный («чувство чести»), более благовоспитанный, чем специально ученый и т. д.
Быть может, кончая этот роман свой, в котором дворяне так бестолковы и слабы, — Достоевский почувствовал в глубине правдивой души своей, что он не совсем прав против русского дворянства; что реальное дворянство не виновато в том, что он сам не мастер изображать возможно положительные характеры из высших слоев общества, характеры, которые попадаются у всех других хороших писателей наших, с которыми он и сам, наверное, в жизни встречался и знакомился и какими (прибавляю я) следует даже вполне удовлетворяться здоровому человеку, не гоняясь за вздорными идеалами невозможного совершенства! Почувствовал это и прибавил: «а все-таки дворянство нужно!»
Не такое, разумеется, как в «Подростке», а какое-то все-таки нужно.
Нужен для России особый высший класс — людей. А кто говорит особый класс, этим самым говорит, что необходимы такие или иные юридические ограды. Без этих юридических оград все очень скоро смешивается и теряет силу, формы, выразительность.
Нужны привилегии, необходимы и особые права на власть. Достоевский был славянофил, но он был человек жизни, а не теории.
Если из того убеждения, что дворянство нужно, он не вывел нигде, что необходимы и политические привилегии для его сохранения, то это ничего не значит; не успел, случайно не додумался, не дожил, наконец, до 1-го марта, ни до предприятий графа Д. Толстого и Пазухина, ни до всего того, до чего мы дожили.
Хотите вы сохранить надолго известный тип социального развития ! Хотите, — так оградите и среду его от вторжений незваных и неизбранных, и самих его членов от невольного выпадения из этой среды, в которой держаться им уже не будет никакой охоты, не будет ни идеальных поводов, ни вещественных выгод.
 Иван Александрович Ильин
Иван Александрович Ильин