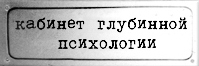Дмитрий Быков. ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
1
Почему именно Золя? Не только потому, что это любимый прозаик автора, по крайней мере из числа европейских. Дело в том, что именно такой автор, как Золя, сегодня по-настоящему нужен русской литературе, но где ж его взять? Золя — это не только лучшая фамильная сага в мировой литературе, не только главный летописец Франции во второй половине девятнадцатого столетия, не только создатель мира, в котором волей-неволей пришлось жить всем его современникам, ибо он создал самый убедительный и полный портрет Второй империи, и жизнь принялась подражать литературе. Золя — это еще и образ жизни, эталон литературного поведения, едва ли не главный — после самого Дрейфуса — герой знаменитейшего политического процесса; даже если бы не было никаких «Ругон-Маккаров», а была только статья «Я обвиняю» — имя автора гремело бы в веках. Пожалуй, во Франции — да и во всей Европе рубежа столетий — он единственная фигура, сопоставимая с Толстым и в чем-то равная ему; Толстой, вероятно, возмутился бы, ибо ориентировался всю жизнь на Гюго, отчасти позаимствовал у него форму «Отверженных» для «Войны и мира» и любил чисто по-человечески.
Золя в русской критике упорно не везло, Щедрин считал его порнографом, а уж как ему доставалось от российских публицистов за позитивизм и натурализм! Да, братцы, над Золя не поплачешь, и поэзия его текстов — совсем не та, которой привык умиляться российский усадебный читатель. О полемике его с Толстым мы еще скажем. Вообще Россия любит иррациональное — мир как есть тут совершенно не интересен, тут подавай чудо в последний момент, внезапное спасение, математический фокус, благодаря которому дважды два всегда равно пяти, с учетом, видимо, отката; и вся история наша иррациональна, вся она идет под петровским лозунгом «Небываемое бывает». Золя не таков: в его мире все детерминировано — генами ли, социальными ли условиями, географией или климатом. В его мире все познаваемо — познание и есть его главная страсть, даже в сексе, — и за все приходится платить; это мир закона, а не благодати. Но кажется мне, что старый стишок Алешковского сейчас актуален как никогда: «Давно пора, едрена мать, умом Россию понимать, а предложенье только верить на время следует похерить». Верить было во что, кто бы спорил, но эта субстанция летуча и не над всяким болотом согласна парить. Сейчас она куда-то делась, и надо понимать — иначе тут вообще ничего не останется.
О, как нужен России писатель масштаба и, главное, мировоззрения Золя! Человек, который бы лично перерыл ящики, подвалы, мусорные баки российской жизни, запротоколировал бы жизнь всех слоев аморфного, недоструктурированного общества, разобрался бы с методами здешнего накопления капиталов и с особенностями их траты... Но кто возьмется копаться в столь неаппетитных субстанциях? Многие вообще скажут, что заниматься этим сейчас, накануне столь масштабных перемен, бессмысленно. Это и верно отчасти; но если не понять — ничего ведь и не переменится. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными»; и Золя назвал свой последний роман именно «Истина», под этим названием он тут и вышел, хотя сейчас печатается как «Справедливость».
Истина познаваема, конкретна, может быть понята и преображена. Мэтр Золя, любимый наставник моего отрочества, идеал литератора и человека, потеснивший Мопассана, Флобера и даже великих англичан; автор, которым я в подростковые годы зачитывался так же, как сверстники — добрым Дюма! Где взять нам такого, как вы, и где взять силы, уверенность, бодрость, чтобы хоть отдаленно на вас походить?
2
Биографии у него почти нет, все ушло в тексты. У литераторов этого типа, превративших жизнь в непрерывную каталогизацию эпохи, интересна для публики только смерть, почти всегда внезапная. Золя погиб от угара, и обстоятельства его смерти до сих пор неясны — есть версия, что дымоход тайно заложили кирпичами. Врагов у него хватало, последние годы он жил фактически в осаде. Почему в какой-то момент все эти здоровые, полнокровные, витальные до апоплексичности люди уходили в литературу с головой и минимизировали контакты с миром — в общем, понятно: это способ изъять себя из реальности, потому что в быту такой персонаж почти наверняка натворит дел. Это касалось и политики (в которой Золя, Бальзак, Дюма в молодости участвовали весьма активно), и любовных страстей, в которых они тоже не знали удержу. Все их бесконечные циклы любовных драм — сплошная сублимация, и Золя по этой части, пожалуй, чемпион.
Что можно рассказать о жизни Золя? Он родился 2 апреля 1840 года, по отцу итальянец, дебютировал как журналист, женат был дважды (сначала, как водится, на ровеснице, Александрине, потом — на музе, женщине вдвое младше, Жанне); первый брак так и не был расторгнут официально, и Золя, как множество крупных литераторов, жил фактически на два дома. Почему-то именно литераторы особенно подвержены этому греху — строительству треугольников, а то и многоугольников: Тургенев, приютившийся в Париже «на краю чужого гнезда», Маяковский, живущий с Бриками, Зощенко, от жены свободно уходящий ночевать к любовнице, и Пастернак, не желающий разрушать вторую семью, а потому снимающий дачу для Ивинской с дочкой в двух шагах от собственного переделкинского убежища. Проще всего объяснить это эгоизмом, жаждой комфорта — работать дома, в уюте кабинета, а потом идти ночевать к музе, молодой, прелестной и не обремененной хозяйством; но, думаю, причина тут в ином — в подспудной жажде двойного существования. Золя всегда было тесно в одном мире — да и двух ему, в общем, мало: он живет тройной жизнью. Одна — дома, вполне респектабельная; другая — у Жанны Розеро, романтическая; третья — это непрерывный сбор материала, дающий ему возможность постоянно примерять чужие судьбы и профессии. Задолго до Хейли, прославившегося погружением в чужие биографии и ремесла, он досконально изучал шахтерский быт (для «Жерминаля»), жизнь главного столичного рынка (для «Чрева Парижа»), расписание, звуки и запахи железнодорожных депо (ради «Человека-зверя»), и все это двадцать лет без перерыва, то спускаясь в ад трущоб, то не вылезая из художественных мастерских или салонов. Доскональность, с которой он описывал каждую вновь открывающуюся среду — от церковной до бордельной, — поистине несравненна: мир Золя стереоскопичен, полон запахов, зычных голосов, гнусных заговоров, извращений, но с какой же, товарищи, силой и страстью все это у него написано! Я не знаю более яркого изобразителя — вот где настоящая живопись, те же плотные, тяжелые, густые мазки, сгустки краски, швыряемые на холст, что и у Ван Гога.
3
В детстве я три раза читал книгу за день, физически не в силах оторваться: с «Островом сокровищ» и «Портретом Дориана Грея» все понятно, но «Карьера Ругонов»! Понятно, что мне в двенадцать лет была необыкновенно интересна история двух влюбленных подростков, Сильвера и Мьетты, которые и готовы потерять невинность, но еще не знают, как (вообще это лучший роман о подростковой любви, думаю я). Но абсолютным шедевром я до сих пор считаю первую главу, ту, где описывается тупик и пустырь святого Митра, огромный кладбищенский сад, возросший на жирной, удобренной бесчисленными мертвецами земле. Говорят, что Золя натуралист, но в каком смысле? Если разуметь под натурализмом — как многие искренне заблуждающиеся — некий гиперреализм, следование самой грубой и грязной правде, то это не так, конечно. Натурализм происходит как-никак от слова «натура», природа; он вовсе не сводится к копированию быта, к копанию в ночных горшках, в чем упрекал Золя наш Тургенев. Разумеется, для Золя нет запретных тем, и по части проникновения в самые интимные, возбуждающие и грязные тайны физиологии ему действительно нет равных; но натурализм не холоден, не протоколен — он поэтичен и страстен, поскольку учится у природы ее амбивалентной мощи. Природа равно прекрасна благодаря цельности, взаимообусловленности высокого и низкого, и на этих контрастах Золя строит свою поэтику: кладбище и расцвет, трупы, удобряющие землю, и ее буйное страстное цветение — это лучшее, что есть в «Карьере Ругонов», и когда Сильвера убивают именно там — вот где стык любви и смерти! Золя прежде всего поэт, и запоминаются в его прозе всегда именно эти яркие, брутальные, безумные кульминации: пьяный солдатский поезд без машиниста в финале «Человека-зверя», соития на медвежьей шкуре в «Западне», финальная сцена в «Нана», где «Венера разлагалась»... На этих адских контрастах строится вся поэтика «Ругон-Маккаров», где любовь и смерть не просто соседствуют, а сплетаются. Собственно, вся хроника семьи — слияние маккаровской болезненной мечтательности, интуиции, преступной извращенности с ругоновской здоровой силой, сметкой, цинизмом; женское начало тут, конечно, Маккары — и не зря страшным символом вырождения стала тетя Дида, Аделаида Фуке, праматерь рода, безумная старуха, к которой в последний миг жизни вернулся разум. И когда последний в ее роде умирает от гемофилического кровоизлияния у нее на глазах, она шепчет:
— Жандарм! Жандарм!
Этот жандарм когда-то убил на ее глазах Маккара, а потом — тоже на глазах — Сильвера.
Ничего в мировой литературе не знаю ужасней этого финала эпопеи, этого «Доктора Паскаля» — самого маленького и самого жуткого, двадцатого романа в цикле. Впрочем, смерть двух младших представителей рода на глазах прародительницы — инвариант, который Золя впервые опробовал в «Терезе Ракен», первом своем романе, имевшем успех. У-у, какие там страсти, какие душераздирающие коллизии, совершенно бульварные, конечно, хотя мастерство портрета уже тут как тут; но финал удался до того, что был использован в главном труде его жизни. «Тереза взяла стакан, выпила половину и протянула Лорану; тот осушил его до дна. Это произошло мгновенно. Сраженные, они рухнули друг на друга, обретя утешение в смерти. Губы молодой женщины коснулись шеи мужа — того места, где остался шрам от зубов Камилла. Трупы пролежали всю ночь на полу столовой, у ног г-жи Ракен, скрюченные, безобразные, освещенные желтоватыми отсветами лампы. Почти двенадцать часов, вплоть до полудня, г-жа Ракен, неподвижная и немая, смотрела на них, уничтожая их своим тяжелым взглядом, и никак не могла насытиться этим зрелищем».
А? Жуть! И не скажешь, что дешево, хотя «шрам от зубов Камилла» — это уж, конечно, перебор. У кого другого смотрелось бы чрезмерностью, безвкусием, — но у Золя градус темперамента, накал ненависти и жалости таков, что на несообразности не смотришь, избыточности не замечаешь. Самоубийство либо убийство влюбленных — вот его тема; обреченная красота, гниющая юность — это тоже к нему. И когда в финале «Жерминаля» герои под землей, засыпанные в шахте, предаются похоти — у кого другого читатель мог бы спросить: ну что ты несешь, француз? До того ль, голубчик, было?! Но от Золя мы этого самого и ждем, мы с самого начала караулим, когда наконец Этьен и Катрин сделают это. «Для чего мы так долго ждали?!» Ей пятнадцать, у нее рыжеватые волосы, великолепные зубы, вздернутый нос — у кого, скажите, в пятнадцать не было такого идеала? И вот, значит... Нет, братцы, это надо цитировать. «В безотчетном порыве она бросилась ему на шею, сама искала его губы, прильнула к ним поцелуем в самозабвенной страсти. Мрак сменился для нее светом, она смеялась воркующим смехом влюбленной женщины. Этьен затрепетал, почувствовав, как она приникла к нему, почти нагая, едва прикрытая лохмотьями, и в пробудившемся желании сжал ее в объятиях. Пришла для них ночь любви в глубине этой могилы, где брачным ложем служил им слой грязи; они не хотели умереть, не получив своей доли счастья, они упорно хотели жить и в последний миг зачать новую жизнь. В ночь отчаяния, перед лицом смерти они познали исступление любви. А потом всему пришел конец. Этьен сидел на земле все в том же углу, Катрин лежала у него на коленях, безмолвная, недвижимая. Шли часы за часами. Он долго думал, что она спит, потом потрогал ее — она была совсем холодная, она была мертва». Его-то спасли, а она-то — все. Вот это — «брачным ложем им служил слой грязи» — сильный, театральный, пожалуй, что и дешевый эффект; но литература вообще грубое дело, иногда такие вещи работают.
4
«Ругон-Маккары» — титанический замысел, глобальная метафора, почти дантовский «чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник», как назвал Мандельштам «Божественную комедию». Идея — показать, как вырождается страна, на примере вырождения семьи; вырождению семьи способствуют дурные гены и отвратительные социальные условия, а вырождению страны — дурная политическая наследственность и огромный разброс между верхами и низами. Жизнь солдат, художников, мещан, чиновников, священников — все отравлены. Что мешает Пупо и Жервезе — счастливым влюбленным — жить прекрасно и гармонично? Родовое проклятие плюс полное отсутствие социальной гигиены. Что мешает Нана любить и быть любимой? Тупость на грани дебильности, чувственность на грани эротомании, грубость, неразвитость, алчность. Не на всем роде человеческом, но на значительной его части лежит все то же проклятие, и это не первородный грех, а вполне конкретные грехи отцов. Золя не метафизичен, но темперамент его таков, что научный роман о вырождении превращается в поэму. Думаю, когда Моэм писал симфонический финал «Луны и гроша» — «Это было нечто первобытное и ужасное. Это было прекрасно и бесстыдно», — он думал не только о Гогене, но и о Золя.
Да, научный роман — не самый легкий и уж точно не самый популярный жанр; но ведь не за популяризацию теории наследственности — только возникшей и входившей в моду — любим мы Золя. Хромосомная теория не была еще построена, о наследственности спорили, Золя читал Дарвина и Геккеля — он вообще предполагал, что бытие человека обусловлено бесконечным количеством внешних факторов, и наследственность — самая глубокая обусловленность — интересовала его больше всего. Само собой, он на протяжении всей двадцатилетней — по роману в год — фанатичной работы над циклом думал о том, как же это клеймо преодолеть; и доктор Паскаль, явный автопортрет, был его ответом. Труд, знание, дисциплина, милосердие — и в результате наследственное проклятие может превратиться в благословение, как наследственный невроз Клода Лантье превращается в гениальность. Золя в самом деле обожествляет труд и познание — потому что больше человеку надеяться не на что. И тут он радикально расходится с Толстым, который посвятил ему специальную статью «Неделание».
Это очень русская статья, думаю, самая русская во всем обширном толстовском публицистическом наследии. «Но кроме этого меня всегда уже давно поражало то удивительное, утвердившееся особенно в Западной Европе, мнение, что труд есть что-то вроде добродетели, и еще гораздо прежде, чем прочесть это мнение, ясно выраженное в речи г-на Золя, я уже не раз удивлялся на это странное значение, приписываемое труду. Ведь только муравей в басне, как существо, лишенное разума и стремлений к добру, мог думать, что труд есть добродетель, и мог гордиться им. Г-н Золя говорит, что труд делает человека добрым; я же замечал всегда обратное: сознанный труд, муравьиная гордость своим трудом, делает не только муравья, но и человека жестоким. Если даже трудолюбие не есть явный порок, то ни в каком случае оно не может быть добродетелью. Труд так же мало может быть добродетелью, как питание. Труд не только не есть добродетель, но в нашем ложно организованном обществе есть большею частью нравственно анестезирующее средство вроде курения или вина, для скрывания от себя неправильности и порочности своей жизни. «Когда мне рассуждать с вами о философии, нравственности и религии — мне надо издавать ежедневную газету с полмиллионом подписчиков, мне надо организовать войско, мне надо строить Эйфелеву башню, устраивать выставку в Чикаго, прорывать Панамский перешеек, дописать двадцать восьмой том своих сочинений, свою картину, оперу». Не будь у людей нашего времени отговорки постоянного, поглощающего их всех труда, они не могли бы жить, как живут теперь. Только благодаря тому, что они пустым и большею частью вредным трудом скрывают от себя те противоречия, в которых они живут, только благодаря этому и могут люди жить так, как они живут».
Вот как он их всех приложил!
Русский человек вообще не любит труд как самоцель; он всегда занят более важными вещами. И истина ему не нужна, ибо она всегда только первый слой истины; а вот как лишат тебя всех прав состояния, да сошлют в Сибирь, да трахнут в попу твою мать, твою жену, твоих детей, твою собаку, и все это у тебя на глазах, и потом тебя, чтобы не зазнался, — вот это и будет истина; таково, по крайней мере, местное о ней представление. Истина не есть объективная реальность, а это такое состояние, хуже которого ничего быть не может, предел падения, и русский человек все время стремится пасть, чтобы эту истину там найти.
«Ищите царствия Божия, а остальное приложится вам», — заканчивает Толстой свою отповедь Золя, и ни на секунду ему не приходит на ум, что работа и есть единственно возможное усовершенствование мира, что сознательное созидание храма культуры и есть лучшее средство от распада личности, а непрерывное искание царства Божия как раз и есть кратчайший путь к социальной энтропии, ко всему тому, что Толстой так ненавидел и все-таки ничего не мог с этим сделать. Ну пойдет Нехлюдов в каторгу — и дальше что? Катюша все равно полюбит Симонсона и за него выйдет. Ну будет Толстой мучиться совестью и искать царствия Божия — а что будет в это время на земле, у него под носом, в его доме? Труд, конечно, не добродетель, трудоголизм ничем не лучше алкоголизма, но он единственно достойное человека занятие.
И вот тут разбери: Франция трудится, проповедует самодисциплину, Золя идеологически победил, — а в сороковом году Франция по вполне рациональным соображениям ложится под гитлеровские сапоги, сохраняет множество жизней (кроме еврейских), создает правительство в Виши и покрывается вечным позором. А Россия с ее вечным бардаком, поисками царствия Божьего, диктатурой и подпольной свободой — берет и останавливает фашизм, и уничтожает его, и спасает в том числе Францию. Вот тут и гадай, кто прав.
5
«Я обвиняю» — документ титанической силы, написанный в лучших традициях Золя, с напором и страстью, и Золя не мог не написать этого документа, потому что верит в Истину. Дело Дрейфуса шито белыми нитками, оно построено на той самой иррациональной злобе, которую вызывает у француза-мещанина умный и порядочный чужак, и против этой бешеной злобы мещанства восстает позитивист Золя, человек Просвещения, с ясным умом и необузданной душой. Он произносит свой приговор грязному шпиону Эстергази и защищает офицера генштаба Дрейфуса, который ни сном ни духом не виноват в шпионаже и стал жертвой грубо сфабрикованного обвинения только потому, что на антисемитизме легче сыграть. Золя не дожил до полного оправдания Дрейфуса и вручения ему ордена Почетного легиона. Более того, он заплатил годом изгнания — и фактически бегством из Франции в Англию — за попытку защитить Дрейфуса: памфлет «Я обвиняю» стоил Золя ссоры с соотечественниками, обвинения в клевете и приговора к заключению. Никто, правда, особо не препятствовал ему сбежать. А все-таки дурно. Этот номер «L'Aurore» с текстом Золя на первой полосе расколол страну — вот оно, влияние печатного слова! — но сколько же ругани пришлось выслушать Золя, какие обвинения в измене, предательстве, в неуважении к возлюбленному Отечеству! Стало знаменитым высказывание Франса: «Я очень люблю Золя, и все же он наворотил самую высокую гору нечистот в литературе». Этот его еще действительно любил, а те, кто не любил? В России его дразнили Нанатуралистом. И только дело Бейлиса, напомнившее процесс Дрейфуса, и роль Короленко, напомнившая роль Золя, заставили вспомнить французского романиста и его подвиги; сейчас его читают очень мало, потому что строгий взгляд на человека нам чужд. Нам не надо истины, да и свободы не надо. Нам надо чего-то совершенно другого, поэтому мы так и живем. Для Сталинграда такой образ жизни годится, для остального времени — не очень.
Ну так давайте в экстремальных обстоятельствах читать Толстого с Достоевским, а в остальное время все-таки Золя.
А то никакой земли не напасешься.
.