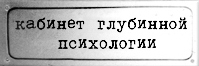ГОД тому назад, в такое же время, в Бискре, я узнал из газет о прискорбной кончине Оскара Уайльда. Дальность расстояния не позволила мне — увы! — примкнуть к жидкой процессии, провожавшей его останки до кладбища; я приходил в бессильное отчаяние от того, что мое отсутствие по-видимому сузит и без того ограниченный круг друзей, оставшихся верными. Мне захотелось поэтому написать поскорей хотя бы эти строки; но в течение долгого времени имя Уайльда видимо снова сделалось достоянием газет... Сейчас, когда всякого рода нескромные толки вокруг этого, столь печально нашумевшего имени стихли, когда толпа, наговорив похвал, устала удивляться, а вскоре затем и проклинать,— пусть будет позволено его другу выразить свою все еще ощутимую грусть и возложить, как венок на заброшенную могилу, эти страницы привязанности, восхищения и почтительной жалости.
Когда скандальный процесс, взволновавший общественное мнение Англии, грозил разбить его жизнь, группа литераторов и художников испробовала своеобразный способ спасения утопающего: средствами литературы и искусства. Была высказана надежда, что восхваление писателя поможет прощению человека. Но — увы! — произошло недоразумение, ибо следует со всею искренностью признать: Уайльд не является великим писателем. Свинцовый спасательный круг, который ему бросили, в конечном счете его сгубил: произведения его вместо того, чтобы поддержать, стали погружаться одновременно с ним. Напрасно протянулись к нему иные руки. Человеческая волна сомкнулась: все было кончено.
В то время никто не додумался до защиты совсем иного рода. Вместо того, чтобы прикрывать Уайльда его произведениями, следовало прежде всего показать удивительного человека, как ныне хочу попробовать сделать я, и тогда самое творчество его окажется как бы просвеченным его личностью.
«В мою жизнь я вложил весь мой гений, в мои произведения я вложил только талант», говорил Уайльд. Он не «великий писатель», а «великий вивер», если позволительно придать этому слову его полный смысл. Подобно философам Греции, Уайльд не записывал, а превращал в слово и в жизнь свою мудрость, неосмотрительно доверяя ее текучей памяти людей;
он писал ее на воде. Пусть люди, знавшие его гораздо дольше, расскажут его биографию; а сейчас один из тех, кто слушал его с наибольшей жадностью, бесхитростно сообщает некоторые свои личные воспоминания.
I
Все сходившиеся с Уайльдом в последние годы его жизни с трудом могут судить по слабому, опустившемуся человеку, которого нам вернула тюрьма, о том изумительном существе, каким он был вначале.
В первый раз я повстречался с ним в 1891 году. В то время Уайльд обладал тем, что Теккерей называет «главным даром всех великих людей»: успехом. Он двигался, он глядел как триумфатор! Успех его был до такой степени несомненен, что, казалось, он опережал шаги самого Уайльда: ему оставалось только подвигаться вперед. Его книги поражали и очаровывали. Его пьесы должны были скоро поставить на ноги весь Лондон. Он был богат, он был велик, он был красив, по горло завален счастьем и почестями. Одни сравнивали его с азиатским Вакхом, другие — с римским императором, иные — с самим Аполлоном — и, в самом деле, от него исходило сияние.
В Париже, как только он там появился, его имя переходило из уст в уста; о нем рассказывались самые вздорные анекдоты:
в то время Уайльд был еще человеком, курившим папиросы с золотым мундштуком и гулявшим по улицам с цветком подсолнечника в руке. Владея искусством водить за нос людей, создающих светскую славу, Уайльд сумел создать, наряду с своим истинным обликом, какой-то забавный фантом, которым он остроумно играл.
Я услышал о нем у Малларме: его изображали блестящим собеседником, и мне захотелось с ним познакомиться без всякой надежды когда-нибудь это осуществить. Счастливый случай, вернее один приятель, которому я поведал свое желание, оказал мне услугу. Уайльд был приглашен на обед. Дело происходило в ресторане. Нас было четверо, но говорил только один Уайльд.
Он не беседовал: он рассказывал. За все время обеда он не переставая рассказывал. Он рассказывал тихо и медленно; и самый голос его был чудом. Он превосходно знал французский язык, но делал вид будто ищет слова, и намеренно заставлял себя ждать. У него не было почти никакого акцента или, вернее, было как раз столько, сколько ему хотелось показать и тем самым придать своим словам новый, иногда странный вид. Сплошь и радом вместо scepticiesm он произносил skepticisme. Истории, которые он нам не переставая рассказывал в этот вечер, были бледны и не из лучших в его репертуаре. Не будучи еще в нас уверен, Уайльд нас пробовал. Из своей мудрости, как и из своих безумств, он открывал только то, что, по его мнению, могло быть оценено слушателем; каждому он заготовлял пищу, соответствующую его аппетиту; люди, ничего от него не ожидавшие, не получали ничего или ничтожное количество легкой пены; и так как главной его заботой было позабавить, очень многие из людей, думавших, что его знают, знали в нем только забавника.
После обеда мы вышли. Двое моих приятелей пошли вместе; Уайльд отвел меня в сторону.
— Вы слушаете глазами,— сказал он мне несколько неожиданно. — Вот почему я расскажу вам такую сказку:
«Когда Нарцисс был мертв, цветы полей опечалились и попросили у реки капелек воды, чтобы его оплакать. — Ах,— отвечала им река, — если бы все мои капли обратились в слезы, мне и тогда было бы их мало для того, чтобы самой оплакать Нарцисса: я любила его! — Ах,— сказали полевые цветы,— как могла ты не любить Нарцисса? Он был красив! — Разве он был красив? — спросила река. — Кто же лучше тебя это знает? Каждый день, склонившись на берегу, он созерцал свою красоту в твоих водах...»
Уайльд на мгновение остановился...
— «Я любила его за то,— сказала река,— что, когда он склонялся над моими водами, я видела в его глазах отражение моих вод».
Уайльд выпрямился и с каким-то странным смехом прибавил:
— Это называется: «Ученик».
Мы подошли к его дверям и простились. Он попросил меня заходить. В течение этого и следующего года я виделся с ним часто и в разных местах.
Перед посторонними, как я уже говорил, Уайльд надевал показную маску, предназначенную для того, чтобы удивлять, позабавить, а иной раз для того, чтобы извести. Он не любил слушать и уделял мало внимания мысли, если только она не принадлежала ему. Как только ему не удавалось блистать самому, он стушевывался. Он находил себя только тогда, когда вы оказывались с ним наедине.
Стоило ему остаться один на один, как он сразу же начинал:
— Что вы делали со вчерашнего дня?
И так как в то время жизнь моя протекала без потрясений, все, что я мог сообщить, не представляло для него никакого интереса. Я послушно пересказывал ему разные мелкие факты и заметил, что во время моего рассказа Уайльд начал морщить лоб.
— И вы, действительно, были заняты только этим?
— Да,— отвечал я.
— Вы говорите правду?
— Конечно, правду.
— В таком случае, к чему было это излагать? Вы прекрасно знаете, что это неинтересно. Поймите, что существует два мира: тот, который у нас есть и о котором обычно говорят; его мы называем миром действительности, ибо для того, чтобы его видеть, совершенно незачем о нем говорить. Но есть и другой: мир искусства; о нем мы обязаны говорить, потому что иначе он не мог бы существовать.
«Однажды на свете жил человек, которого все в деревне любили, так как он умел рассказывать истории. Каждое утро он уходил из деревни, а когда к вечеру он возвращался, трудовой деревенский люд, намаявшись за весь день, собирался к нему и говорил: «Ну, расскажи: что ты видел сегодня?» И он рассказывал: «В лесу я видел фавна, игравшего на флейте, под звуки которой плясал хоровод крошечных козлоногих». — «Расскажи еще: что ты видел?» — спрашивали люди. — «Когда я пришел к берегу моря, я увидел там трех сирен, качавшихся на краю волны и расчесывавших золотым гребнем свои зеленые волосы». — И люди любили его, потому что он рассказывал им истории.
«Однажды утром он покинул, как всегда, свою деревню — но, когда он подошел к берегу моря, он вдруг увидел трех сирен,— трех сирен на краю волны, расчесывавших золотым гребнем свои зеленые волосы. И, продолжив свой путь, он увидел на опушке леса ф?вна, игравшего на флейте целому хороводу козлоногих... В этот вечер, когда он вернулся к себе в деревню и когда его спросили, как прежде: «Ну, расскажи нам, что ты видел?» — он отвечал: «Сегодня ничего».
Уайльд остановился, выждал, пока рассказ произведет на меня свое действие, и потом снова начал:
— Мне не нравятся ваши губы: они совершенно прямые, как у людей, которые никогда не лгут. Я хочу научить вас лгать, для того чтобы губы ваши стали прекрасны и изогнуты, как губы античной маски.
«Знаете ли вы, в чем сущность произведения искусства и произведения природы? Знаете, в чем состоит различие между ними? Ибо, в конечном счете, цветок нарцисса так же прекрасен, как и произведение искусства; то, что их отличает, это не
красота. Знаете, чем они отличаются? Произведение искусства всегда — уника. Природа, не создающая ничего долговечного, все время повторяется, чтобы ни одно из ее созданий не потерялось. Существует великое множество цветов нарцисса:
вот почему каждый из них может жить только день. И каждый раз, когда природа изобретает новую форму, она ее немедленно повторяет. Морское чудище, живущее в море, знает, что в другом море существует морское чудище, на него похожее. Когда Бог создает в истории Нерона, Борджиа или Наполеона, рядом с ними он помещает людей, похожих на них; мы их не знаем, да это и не важно, важно то, чтобы о д и н из них удался;
ибо Бог творит человека, а человек творит произведение искусства.
Я знаю... был день, когда земля испытала великое беспокойство, как если бы природа захотела наконец сотворить некое неповторимое существо, нечто поистине неповторимое — и на земле родился Христос. Да, я отлично это знаю... но послушайте:
«Когда Иосиф Аримафейский к вечеру спустился с Голгофы, где только что умер Иисус, он увидел, что на белом камне сидел юноша, который плакал. Иосиф подошел к нему и сказал: «Я понимаю, почему печаль твоя так велика, ибо поистине этот человек был праведником». — Но юноша ответил ему: «О, нет, я плакал не об этом! Я плачу потому, что я тоже творил чудеса! Я возвращал зрение слепым, я исцелял расслабленных и воскрешал мертвых. Я тоже иссушил бесплодную смоковницу и претворил воду в вино... И люди меня не распяли!»
Тот факт, что Оскар Уайльд был убежден в историчности своей миссии, вставал передо мной неоднократно.
Евангелие волновало и мучило язычника Уайльда. Он не мог простить ему чудес. Чудо язычника — произведение искусства: христианство выступало узурпатором. Всякий сильный художественный ирреализм требует убежденного реализма в жизни.
Самые остроумные из его притч, самые беспокойные его иронии имели целью сопоставить обе морали, то есть языческий натурализм с христианским идеализмом, и лишить этот последний всякого смысла.
«— Когда Иисус пожелал снова вернуться на родину,— рассказывал он,— Назарет так изменился, что Он не мог узнать Своего города. Назарет, в котором Он жил, был полон стенаний и слез; этот новый город был исполнен смеха и песен. И Христос, войдя в город, увидел рабов, отягощенных цветами, которые торопливо взбирались по мраморной лестнице какого-то беломраморного дома. Христос вошел в дом и в глубине зала из яшмы, на пурпурном ложе Он увидел человека, в разметанные волосы которого были вплетены красные розы;
губы его алели от красного вина. Христос подошел к нему, коснулся его плеча и сказал: «Зачем ты ведешь такую жизнь?»
— Человек обернулся, узнал его и ответил: «Я был прокаженным, и Ты исцелил меня. Разве могу я теперь жить иначе?»
И Христос покинул этот дом. И вот Он видит на улице женщину, лицо и одежды которой были окрашены, а ноги обуты в сандалии из жемчугов; следом за ней поспешал человек в одежде двух разных цветов, и глаза его туманились от желания. Христос подошел, коснулся его плеча и сказал: «Зачем ты идешь за ней, зачем ты так глядишь на эту женщину?»
— Человек обернулся, узнал Его и ответил: «Я был слеп, и Ты исцелил меня. Что же делать мне зрячему?»
И Христос приблизился к женщине: «Дорога, которой ты идешь,— сказал он,— ведет к греху; зачем ты следуешь по ней?» Женщина узнала Его и сказала со смехом: «Дорога, которой я иду, приятна, и Ты отпустил мне все грехи мои».
И тогда сердце Христа исполнилось скорби, и Ему захотелось покинуть этот город. При выходе из него Он увидел, что на краю рва сидел юноша и плакал. Христос подошел к нему и, коснувшись его кудрей, спросил: «Друг, о чем ты плачешь?». И Лазарь поднял к нему свои глаза и сказал: «Я был мертв, и Ты воскресил меня; так что же мне делать?»
— Хотите я вам открою одну тайну? — начал в другой раз Уайльд, находясь со мною у Эредиа; он отвел меня в угол салона, наполненного публикой,— одну тайну... но обещайте не рассказывать ее никому... Знаете, почему Христос не любил Свою мать? — Он сказал это на ухо, шепотом и точно стыдясь. Он сделал короткую паузу, схватил меня за руку, отпустил на шаг и, расхохотавшись, коротко бросил: «Потому что она была девой!!»
Позволю себе привести еще одну притчу, одну из тех странных притч, о которую способен споткнуться разум, и пусть каждый понимает, как хочет, противоречие, которое как будто даже не выдумано Уайльдом.
«... И вот в Палате Божьего суда воцарилось глубокое молчание. Душа грешника совсем нагая предстала перед Господом.
И Господь открыл Книгу жизни грешника:
— Поистине, жизнь твоя была исполнена зла: ты... — (далее следовало изумительное, чудесное перечисление грехов).* — А поскольку все это тобой сделано, я отправляю тебя в Ад.
* Запись этой притчи, сделанная им гораздо позже, является (это исключение) превосходной, а потому такими же качествами обладает и ее перевод, сделанный моим другом, А. Давре, в «Ревю Бланш».
— Ты не можешь отправить меня в Ад.
— Почему же Я не могу этого сделать?
— Потому что я прожил в нем всю свою жизнь. И тогда снова воцарилось глубокое молчание в Палате Божьего суда.
— Хорошо. Если Я не могу послать тебя в Ад, Я отправлю тебя на небо.
— Ты не можешь отправить меня на Небо.
— Почему же Я не могу этого сделать?
— Потому что я никогда не мог себе его представить. И снова воцарилось глубокое молчание в Палате Божьего суда.»*
Однажды утром Уайльд протянул мне статью, прося прочесть слова весьма недалекого критика, поздравлявшего его с тем, что «он умеет выдумывать красивые притчи, в которые он наряжает свои мысли»,
— Они воображают,— сказал Уайльд,— что все мысли рождаются в чистом виде... Они не понимают, что я могу мыслить только притчами. Скульптор совсем не стремится перевести свою мысль на язык мрамора; он сразу же мыслит в мраморе.
«На свете жил человек, который мог мыслить только в бронзе. И однажды у этого человека возникла мысль, мысль о радости, которая длится одно мгновение. Но во всем мире не осталось ни одного куска бронзы, ибо люди всю ее израсходовали. И человек почувствовал, что он сойдет с ума, если он не выскажет свою мысль.
И он подумал тогда о куске бронзы на могиле своей жены, о статуе, которую он изваял для украшения ее могилы, единственной женщины, которую он любил. То была статуя скорби,— скорби, которая наполняет целую жизнь. И человек почувствовал, что он сойдет с ума, если не выскажет свою мысль.
И вот он взял статую скорби, которая наполняет целую жизнь, разбил ее, перелил и создал из нее статую радости,— радости, которая длится одно мгновенье».
Уайльд верил в роковую судьбу художника и считал, что идея сильнее самого человека.
— Бывает,— говорил он,— два вида художников: одни приносят ответы, другие — вопросы. Необходимо знать, принад-лежишьли ты к числу тех, которые отвечают, или тех, которые спрашивают, ибо спрашивающий никогда не бывает тем, кто дает ответы. Существуют произведения, которые долго ждут и
* С тех пор, как Вилье де Лиль-Адан проговорился, все знают, увы! великую тайну церкви: чистилища не существует.
которых долгое время нe понимают; дело в том, что они принесли с собой ответы на вопросы, которые еще не были поставлены, ибо вопросы сплошь и рядом приходят неизмеримо позже ответов.
Он говорил еще:
— Душа рождается в теле старой: для того-то, чтобы ее помолодить, тело стареет. Платон — вот юность Сократа.
А потом три года мне не пришлось его видеть.
II
Здесь начинаются трагические воспоминания.
Упорные слухи, усиленно распространявшиеся вместе со слухами об его успехах (в Лондоне его играли сразу на трех театрах), приписывали Уайльду странные нравы, которые иные склонны были осуждать пока что одной улыбкой, а другие и вовсе не осуждали; при этом уверяли, что он их почти не скрывает, а сплошь и рядом даже выставляет напоказ; по отзыву одних — с храбростью, по другой версии — с цинизмом, по версии третьих — с намерением блеснуть. Полный удивления, я прислушивался к этим рассказам. Ничто за все время моего знакомства с Уайльдом никогда не давало никаких поводов для подозрений. И тем не менее многие из его прежних друзей из осторожности стали его избегать. Никто еще круто с ним не порвал, но встречами с ним больше не дорожили.
Необыкновенный случай снова столкнул наши пути. Это было в январе 1895 г. Я путешествовал; меня гнало мрачное настроение, я искал скорее одиночества, чем новизны мест. Погода была ужасная; из Алжира я сбежал в Блидах, собираясь уехать оттуда в Бискру. Покидая отель, от безделья или любопытства я взглянул на черную доску, куда заносились фамилии проезжающих. Что я вижу? Бок о бок с моей фамилией, почти задевая ее, стояло имя Уайльда... Я уже сказал, что в то время мучился жаждой одиночества: я взял губку и стер свое имя.
Еще не доехав до вокзала, я несколько усомнился, не заключал ли в себе этот поступок, известной доли трусости; в ту же минуту я вернулся назад, велел внести свои чемоданы и снова проставил свои имя на доске.
За три года, что мы не виделись (я не могу счесть свиданьем короткую встречу во Флоренции год тому назад), Уайльд несомненно изменился. Во взгляде его чувствовалось меньше мягкости; что-то хриплое в смехе, какое-то буйство в весельи.
Казалось, что он гораздо больше уверен в своем обаянии и меньше стремится добиться побед; он как-то осмелел, утвердился, вырос. Странная вещь,— он не говорил больше притчами; за те несколько дней, что я задержался в его обществе, мне не удалось у него вырвать ни одной сказки. С первых же слов я выразил удивление, что он в Алжире.
— Ах,— ответил он мне,— теперь я избегаю произведений искусства. Я хочу обожать одно солнце... Вы заметили, что солнце ненавидит мысль; оно всегда заставляет ее пятиться назад и отступать в тень. Вначале она обитала в Египте, но солнце завоевало Египет. Долгое время она прожила в Греции:
солнце завоевало Грецию, потом Италию, наконец Францию. В настоящее время все мысли оттеснены в Норвегию и Россию, куда никогда не приходит солнце. Солнце ревнует к произведению искусства.
Обожать солнце — это значило обожать жизнь. Лирическое обожание Уайльда становилось диким и страшным. Им водил какой-то рок; он не мог и не хотел от него уклониться. Казалось, что он прилагает все старания, все силы, чтобы преувеличить свою судьбу и довести себя до отчаяния. Он стремился к наслаждению так, как иные стремятся к исполнению долга. «Мой долг,— говорил он,— веселиться до ужаса». — Позже Ницше не вызвал у меня особого удивления, потому что мне пришлось слышать от Уайльда:
— Только не счастье! Никоим образом не счастье. Наслаждение! Всегда следует желать самого трагического...
Он ходил про улицам Алжира, а спереди, вокруг и сзади него сновала неподдающаяся описанию толпа обирал; с каждым из них он разговаривал, восторженно их разглядывал и горстями бросал им деньги.
— Надеюсь,— говорил он,— что мне удалось развратить этот город.
Мне пришли на ум слова Флобера, который на вопрос, какого рода слава его более всего соблазняет, отвечал:
— Слава развратителя.
Все это вызывало во мне чувство удивления, восхищения и страха. Я был осведомлен о пошатнувшейся репутации Уайльда, о его врагах, о нападках на него и о том мрачном беспокойстве, которое он прикрывал своим дерзким весельем.* Он заго-
* В один из последних алжирских вечеров Уайльд, видимо, задался целью ни о чем не говорить серьезно. Под конец я даже рассердился на его не в меру остроумные парадоксы.
— В вашей голове есть вещи получше всех этих шуток,— начал я; — сегодня вечером вы беседуете со мной, точно обращаясь к широкой публике. Вам следовало бы скорее говорить с публикой так, как вы умеете бесе довать со своими друзьями. Почему вы не написали ваших пьес лучше? Все, что у вас есть лучшего, вы высказываете на словах; почему вы так не пишете?
— Да,— воскликнул он с живостью,— пьесы мои совсем не хороши! Я не придаю им никакого значения... Но вы представить себе не можете, как они меня забавляют!.. Почти все они написаны на пари. «Дориан Грей» — тоже; я написал его в несколько дней, потому что один из моих приятелей стал уверять, что я никогда не смогу написать роман. Для меня писать — страшная скука- — И резко наклонившись ко мне: — Хотите,— проговорил он,— узнать великую драму моей жизни? Весь свой гений я вложил в жизнь; в свои произведения я вкладывал только талант.
Это было истинной правдой. Лучшее из написанного им не более, как слабый отзвук его блестящей беседы. У людей, его слышавших, чтение его произведений вызывает разочарование. «Дориан Грей» в момент зарождения был чудесной историей, неизмеримо превосходившей «Шагреневую кожу» и неизмеримо более знамена тельной. Увы, в написанном виде— подлинно неудачный шедевр! К самым очаровательным сказкам Уайльда примешано слишком много литературы; невзирая на все их изящество, в них слишком явно сказывается нарочитость: прециозность и эвфуизм заслоняют красоту их первоначального замысла; в них чувствуешь и не можешь перестать чувствовать три этапа их зарождения; первая мысль была очень красива, проста, глубока и несомненно значительна; какая-то скрытая необходимость крепко связывала их части; но на этом его дар останавливается; развитие частей произведено искусственным образом, они не составляют единого организма; и когда позже Уайльд начинает отделывать фразы, стараясь обработать свою вещь, он невероятно перегружает ее всякого рода кончетти, мелкими забавно-странными выдумками, обрывающими всякое волнение, так что блестки, лежащие на поверхности, скрывают от ума и от взгляда глубину основной эмоции.
ворил о возвращении в Лондон; маркиз К. его оскорблял, звал обратно, обвинял в бегстве.
— Но если вы возвратитесь, что тогда будет? — спросил я. — Вы знаете, чем вы рискуете?
— Такие вещи знать не полагается... Мои друзья изумительные люди: они мне советуют быть осторожным. Осторожным! Но разве я могу быть осторожным? Это значило бы пойти назад. Я должен зайти так далеко, как только смогу. Но я не могу идти дальше... Что-то должно случиться, что-то совсем иное...
На следующий день Уайльд уехал.
Остальное извести». «Что-то совсем иное» оказалось hard labour — каторжными работами.*
* Я ничего не выдумал, ничего не видоизменил в последнем из приводимых мной разговоров. Слова Уайльда еще живут у меня в памяти, я чуть было не сказал: в ушах. Я не могу сказать, что Уайльд уже тогда отчетливо видел перед собою тюрьму; я утверждаю однако, что яркий театральный эффект, поразивший и потрясший Лондон,— эффект, внезапно превративший Оскара Уайльда из обвинителя в обвиняемого, не вызвал в нем, строго говоря, ни малейшего удивления. Газеты, пожелавшие видеть в нем всего только шута, бесцеремонно извратили характер его защиты и лишили ее всякого смысла. Возможно, что когда-нибудь, но еще не скоро, уместно будет очистить от грязи весь этот гнусный процесс.
III
Немедленно по выходе из тюрьмы Оскар Уайльд приехал во Францию. В Берневале, маленькой незаметной деревеньке, в окрестностях Дьеппа, поселился некто Себастиан Мельмот;
это был он. Так как из всех его французских друзей я видел его последним, мне захотелось теперь увидеться с ним первым. Едва только я раздобыл его адрес, как поспешил к нему.
Я приехал около полудня, без предупреждения. Мельмот, которого сердечное расположение Т. довольно часто отзывало в Дьепп, должен был вернуться вечером. Он вернулся только к полуночи.
Зима еще не кончилась. Время стояло холодное, погода отвратительная. Весь день я бродил по пустынному пляжу, в упавших чувствах, мучаясь скукой. Как мог Уайльд выбрать для жительства Берневаль? Мрачное место.
Настала ночь. Я зашел уговориться о комнате в гостиницу, ту самую, где проживал Мельмот, единственную во всем поселке. В гостинице, чистой, приятно расположенной, проживало несколько невзрачных постояльцев, безобидных статистов, с которыми мне предстояло сесть за стол. Незавидное общество для Мельмота!
По счастью со мной оказалась книга. Мрачный вечер; одиннадцать часов... Я не хотел уже больше ждать, как вдруг я услышал, что подкатила коляска... Мосье Мельмот приехал.
Мельмот совсем окоченел от холода. Он потерял в дороге свое пальто. Перо павлина, принесенное ему накануне слугой (зловещая примета), предрекло ему несчастье; хорошо еще, что не случилось ничего худшего. Но его бьет дрожь, и вся гостиница хлопочет, согревая ему грог. Он едва заметно здоровается со мной. Перед посторонними, по крайней мере, он не хочет выказывать своих чувств. Мое волнение тоже немедлент но стихает, едва я заметил, что Себастиан Мельмот до неотличимости похож на того Оскара Уайльда, каким я его некогда знал: не на буйного лирика Алжира, а на кроткого Уайльда, еще не пережившего катастрофы. Казалось, я был перенесен не на два, а на четыре-пять лет тому назад; тот же томный взгляд, тот же резвый смех, тот же голос...
Он снял две комнаты, лучшие в гостинице, и велел их обставить по своему вкусу. На столе множество книг; он разыскал среди них мои «Яства земные», недавно вышедшие в свет. В тени, на высоком цоколе, красивая готическая мадонна.
И вот мы сидим у лампы; Уайльд пьет маленькими глотками свой грог. Теперь, когда он лучше освещен, я замечаю, что кожа на лице у него покраснела и огрубела; руки огрубели еще больше, хотя на них появились прежние перстни; в один из них
(это тот, который он особенно любит) вставлен вращающийся
египетский скарабей из ляпис-лазури. Зубы у него ужасно
испортились. ; Мы болтаем. Я заговариваю о нашей последней встрече в
Алжире. Я спросил, помнит ли он, что уже тогда я почти предсказал ему катастрофу.
—— Не правда ли,— сказал я,— вы ведь, в общем, себе представляли, что вас ожидает в Англии; вы заранее знали об опасности и бросились в нее, очертя голову?..
(Здесь, пожалуй, лучше всего будет переписать те листки, куда я вскоре занес все, что вспомнил из его беседы.)
— О, конечно, конечно! я знал, что произойдет катастрофа:
. та ли, другая ли, но я все равно ее ожидал... Дело неизбежно должно было кончиться таким образом. Подумайте сами: идти дальше не представлялось возможным; продолжаться это тоже не могло. Вот почему, вы сами поймете, все это должно было кончиться. Тюрьма меня в корне переменила. Я учитывал в ней эту сторону,— Бози* ужасен; он не может этого понять; он не может понять, почему я не возвращаюсь к прежнему образу жизни; он обвиняет других в том, что меня подменили... Но никогда не следует возвращаться к прежнему образу жизни... Моя жизнь подобна произведению искусства; художник никогда не повторяет дважды одного и того же, если только у него не было неудачи. Моя жизнь до тюрьмы удалась мне как нельзя лучше. Сейчас это нечто вполне законченное.
Он закурил папиросу.
—Публика до такой степени жестока, что она всегда судит О человеке только на основании его последнего поступка. Если бы я сейчас вернулся в Париж, на меня смотрели бы только как на... преступника. Я не хочу появляться, не написав предварительно драмы. А до тех пор пусть меня оставят в покое. — И он внезапно прибавил: — Не правда ли, я отлично сделал, при-|ехав сюда? Друзья желали, чтобы я отправился отдыхать на лог, потому что вначале я чувствовал большую усталость. Но я их попросил отыскать для меня на севере Франции какой-нибудь маленький пляж, где бы я никого не видел, где было бы очень холодно и где почти не бывает солнца... А? не правда ли, я отлично сделал, приехав жить в Берневаль? — (Вокруг нас бушевало ненастье).
—Здесь все очень добры со мной. В особенности священник. Я очень люблю здешнюю церковь. Подумайте, она посвящена Богоматери Радости! Каково! Разве это не восхитительно? И
* Лорд Альфред Даглас.
сейчас мне кажется, что я никогда не смогу покинуть Берневаль, так как сегодня утром священник пообещал отвести мне постоянное место в хоре!
«А таможенные чиновники! Они здесь ужасно скучали; я спросил их, есть ли у них какое-нибудь чтение; я им теперь ношу все романы Дюма-отца... Не правда ли, мне следует здесь остаться?
А дети? Ах, они меня обожают! В день юбилея королевы я устроил большой праздник, огромный обед, и пригласил сорок школьников — всех, всех, во главе с учителем, чтобы почтить королеву! Не правда ли, это поистине восхитительно?.. Вы знаете, я очень люблю королеву. Я всегда вожу с собой ее портрет. — И он показал мне приколотый булавкой к стене невозможного вида портрет работы Николсона.
Я встаю, чтобы на него посмотреть; рядом — небольшой книжный шкаф; с минуту я разглядываю книги. Мне хотелось бы заставить Уайльда поговорить со мной серьезнее. Я снова сажусь и не без робости осведомляюсь, читал ли он «Записки из Мертвого Дома». Он не дает прямого ответа и произносит:
— Русские писатели люди совершенно изумительные. То, что делает их книги такими великими, это — вложенная в их произведения жалость. Не правда ли, прежде я очень любил «Мадам Бовари»; но Флобер не пожелал допустить жалость в свои создания, и это их сузило и замкнуло в себе; жалость — это та сторона, которая раскрывает произведение, то, благодаря чему оно кажется нам бесконечным. Знаете ли, Деаг, одна лишь жалость помешала мне покончить с собой? Да, в течение первых шести месяцев я был ужасно несчастлив, так несчастлив, что мне захотелось себя убить; меня удержало то, что наблюдая там всех остальных, я увидел, что они также несчастны, как я, и я почувствовал жалость. О, dear, жалость — это замечательная вещь; но я не знал ее прежде. — (Он говорил почти шепотом, без всякого возбуждения.) — Достаточно ли хорошо вы поняли, какая замечательная вещь жалость? Что до меня, то я каждый вечер благодарю Бога — да, да на коленях — благодарю Бога за то, что он позволил мне ее узнать. Ибо в тюрьму я вошел с каменным сердцем, думая только о наслаждении, теперь же мое сердце окончательно надломалось; в мое сердце вступила жалость, и я понял теперь, что жалость есть самая великая, самая прекрасная вещь из всех существующих на свете... Вот почему я не негодую на тех, кто меня осудил, да и ни на кого на свете; ведь без них я никогда бы не узнал ничего подобного. Бози пишет мне чудовищные письма; он говорит, что не понимает меня; он не понимает, почему я не негодую на всех; о говорит, что меня все ненавидят... Нет, он меня не понимает; он не может больше меня понять. Я это ему повторяю в каждом письме; мы не можем
двигаться по прежнему пути; у него своя дорога (и она прекрасна), у меня — своя. Его путь — это путь Алкивиада; мой нынешний путь — это путь святого Франциска Ассизского. Вы знакомы с святым Франциском Ассизским? Ах, это замечательно, замечательно! Хотите доставить мне огромное удовольствие? Пришлите мне лучшее из всех, какие вы знаете, жизнеописание св. Франциска Ассизекого!..» Я пообещал; он заговорил снова:
— Да, впоследствии директором нашей тюрьмы сделался один очаровательный, ах, в полном смысле слова очаровательный человек, но первые шесть месяцев я был ужасно несчастлив. В то время комендантом тюрьмы был один очень злой еврей, отличавшийся большой жестокостью, потому что у него не было ни капли воображения. — Эта последняя фраза, произнесенная очень быстро, вышла необыкновенно смешной; я расхохотался, он — тоже, и, повторив ее, он стал продолжать:
— Он не знал, что придумать для того, чтобы нас заставить страдать... Вы сейчас сами увидите, что у него не было ни капли воображения... Следует заметить, что в тюрьме разрешается выходить на воздух на один час в день; люди ходят гуськом по кругу, и им строжайше воспрещено разговаривать. Сторожа наблюдают за вами, и на нарушителя правил налагаются суровые наказания. Людей, в первый раз попадающих в тюрьму, можно узнать по тому признаку, что они не умеют говорить, не шевеля губами... Прошло шесть недель с тех пор, как я ( попал в заключение, и я никому еще не сказал ни единого , слова,— никому. Однажды вечером мы ходили гуськом, как я уже говорил, совершая часовую прогулку; вдруг я слышу, что сзади кто-то произнес мое имя; это был заключенный, шедший ; сзади меня; он сказал: «Оскар Уайльд, мне вас очень жаль, вы должно быть страдаете гораздо сильнее нас». Я сделал над собой невероятное усилие, чтобы меня не заметили сторожа (мне показалось, что я падаю в обморок), и ответил, не оборачиваясь: «Нет, мой друг; все мы страдаем одинаково». В этот день во мне уже не было желания покончить с собой. «Мы разговаривали таким образом в течение нескольких дней. Я узнал его имя, чем он занимается. Его звали П...; это был великолепный малый. Ах, великолепный!.. Но я не умел еще говорить, не шевеля губами, и в один прекрасный вечер мы
услышали: «С. 33! (С. 33 — это был я) — С. 33 и С. 48, выйдите из рядов!» — Мы вышли из рядов, и сторож сказал: «Вы будете отправлены к господину дирр-ректору!» — А так как жалость уже вошла в мое сердце, то я боялся исключительно за моего товарища; я, напротив, был счастлив пострадать за него. Но директор оказался человеком прямо-таки ужасным; он велел привести П... первым, желая допросить нас отдельно; надо заметить, что наказание для того, кто заговорил первым, и для того, кто стал отвечать,— не одно и то же; наказание для того, кто первый заговорил, в два раза тяжелее, чем для ответившего; обычно первый получает две недели карцера, второй — только неделю. И вот директор пожелал установить, кто из нас заговорил первый. Само собой разумеется, П..., поистине великолепный малый, заявил, что это он. Но когда директор вызвал потом на допрос и меня, то я понятно тоже сказал, что заговорил я. Тогда директор побагровел: он ничего в этом не мог понять: — Но П... -мне тоже заявил, что он начал первый! Ничего не могу понять!..
Подумайте, dear! Он ничего не мог понять! Он был в большом замешательстве и произнес: — Но я посадил того на две недели... — и потом прибавил: — Ну, что ж? Если так, мне придется дать каждому из вас по две недели. — Разве это не замечательно? Этот человек был абсолютно лишен воображения. — Уайльда страшно развеселил его собственный рассказ;
он расхохотался и стал с наслаждением продолжать.
— Естественно, что по истечении двух недель мы еще сильнее, чем прежде, стали испытывать желание поговорить. Вы не знаете, до какой степени могло быть сладким сознание, что каждый из нас страдал за другого. Мало-помалу — нельзя же каждый день попадать в одни и те же ряды — мне удалось поговорить со всеми остальными заключенными; да, со всеми, со всеми! Я узнал имя каждого из них, истории их преступления, сроки освобождения... Каждому из них я говорил: «Когда вы выйдете из тюрьмы, первым делом постарайтесь сходить на почту: там будет денежный пакет на ваше имя». И вот вышло, что я и теперь поддерживаю с ними знакомство, потому что я их очень люблю. Среди них встречаются просто-таки прелестные люди. Поверите ли, трое из них уже успели здесь меня навестить! Не правда ли, это просто-таки поразительно?..
Чиновник, заместивший дрянного директора, был необычайно очаровательный человек, ах, замечательный, исключительно любезный со мной... Вы не можете себе представить, какую поддержку оказала мне в тюрьме постановка «Саломеи» в Париже, пришедшаяся как раз на это время. У нас все совершенно забыли, что я литератор! Но когда люди увидели, что моя пьеса пользуется успехом в Париже, раздались голоса:
«Скажите! Странно; оказывается, у него есть талант». После этого мне позволили читать все книги, какие я пожелаю.
Вначале мне показалось, что мне доставит 0(>обенное удовольствие греческая литература. Я попросил себе Софокла, но не мог найти в нем никакой прелести. Тогда я подумал об отцах церкви, но и они меня не заинтересовали. Вдруг мне пришел в голову Данте; о, да, Данте! Я стал читать Данте каждый день, по-итальянски; я прочел его целиком; но ни «Чистилище», ни «Рай» не показались мне написанными для меня. Я главным образом читал «Ад»; как мне было его не любить! Вы понимаете? Ведь мы тогда были в аду. Ад — это ведь наша тюрьма...» В тот же вечер он мне пересказал наброски своей драмы «Фараон» и интереснейшую притчу об Иуде.
На следующий день он свел меня в прелестный домик в двухстах метрах от гостиницы, который он снял и начал обставлять. Он хотел писать в нем свои драмы: сначала «Фараон», а потом «Ахав и Изабель» (он произносил «Изабель»), которые он мне чудесно рассказывал.
Коляску, в которой я уезжал, уже заложили. Уайльд уселся рядом со мной, чтобы меня немного проводить. Он снова заговорил о моей книге, похвалил ее с какой-то едва уловимой недомолвкой. Наконец, коляска остановилась. Он попрощался со мной, стал выходить и вдруг прибавил:
— Послушайте, dear, мне хочется взять с вас одно обещание. «Яства земные» — хороши... очень хороши... Но, dear, обещайте мне на будущее время никогда не писать «Я».
И так как по моему виду заметно было, что я его не совсем понял, он добавил: «Видите ли, в искусстве нет места для первого лица».
IV
По приезде в Париж я отправился к лорду Альфреду Дагласу сообщить ему вести об Уайльде. Он заявил мне:
— Все это до крайности смешно. Уайльд совершенно неспособен переносить скуку. Я отлично знаю его: он пишет мне каждый день; со своей стороны, я тоже держусь мнения, что ему следует сначала закончить свою пьесу; потом он снова ко мне приедет; он никогда не создавал ничего путного в одиночестве; он нуждается в том, чтобы его постоянно развлекали. Именно возле меня им было написано все лучшее, что у него есть. Впрочем, взгляните на его последнее письмо... — Лорд Альфред достал его и прочитал. В письме Уайльд умолял Бози позволить ему спокойно закончить своего «Фараона», а затем действительно заявлял, что по окончании пьесы он приедет и снова будет с ним видеться; письмо заканчивалось следующей тщеславной фразой:«... и тогда я снова стану королем жизни (the King of Life)».
V
Вскоре затем Уайльд переехал в Париж.* Пьеса его осталась ненаписанной, да никогда и не могла быть написанной. Общество знает, как взяться за дело, когда ему нужно устранить человека, и находит средства более тонкие, чем смерть... За два года Уайльд слишком много страдал и к тому же слишком пассивно. Воля его была сломлена. В первые месяцы он мог еще поддаваться иллюзии, но вскоре сложил оружие. Это было своего рода отречение от власти. В его рухнувшей жизни не осталось ничего, кроме скорбного отзвука того, чем он был еще так недавно: минутная потребность доказать, что он еще мыслит; остроумие, но какое-то выисканное, натянутое, поношенное. С тех пор я видел его только дважды.
Однажды вечером, на бульварах, прогуливаясь с Г..., я услышал, что меня окликают по имени. Оборачиваюсь — это Уайльд. О, как он переменился!.. «Если я появлюсь прежде, чем напишу свою драму, люди будут видеть во мне только каторжника», сказал он мне в свое время. Он явился без драмы, а так как двери некоторых домов для него закрылись, то он не пожелал показываться нигде; он стал бродяжить. Друзья несколько раз старались прийти ему на помощь; пускались на хитрости; его увозили в Италию... Уайльд вскоре ускользал и принимался за старое. Кое-кто из людей, оставшихся ему верными дольше всех, мне часто повторял, что «с Уайльдом уже неудобно встречаться», а потому, должен сознаться, я был слегка смущен, столкнувшись с ним в месте, где проходило множество публики. Уайльд сидел за столиком на террасе кафе. Он заказал для Г... и для меня два коктейля... Я собирался было сесть лицом к нему, то есть так, чтобы повернуться спиной к прохожим, но Уайльд не одобрил такого намерения, полагая, что оно вызвано ложной скромностью (увы! он не совсем заблуждался):
— О, нет, сядьте тут, рядом со мной,— сказал он, указывая на соседний стул; — я теперь так одинок!
Уайльд все еще был недурно одет; но шляпа его уже не имела прежнего блеска, воротничок неизменного фасона не отличался былой чистотой; рукава его сюртука слегка обтрепались.
* Представители его семьи гарантировали Уайльду отличные условия существования, если он согласится взять на себя некоторые обязательства, в том числе согласится никогда больше не встречаться с лордом Альфредом. Он не смог или не пожелал связать себя.
— Когда я, в минувшие годы, встречал Верлена, я не краснел за него,— начал он в каком-то приливе гордости. — Я был богат, весел, увенчан славой, но я чувствовал, что для меня было честью показаться в его обществе даже тогда, когда он бывал пьян... — Затем, видимо боясь наскучить Г..., он резко переменил тон, попробовал острить, шутить и впал в мрачность. В этом месте воспоминания мои делаются гнетуще-тягостными. Наконец Г... и я поднялись. Уайльд настоял на том, чтобы самому заплатить за напитки. Я собирался уже с ним проститься, когда он отвел меня в сторону и неразборчивым шепотом произнес:
— Послушайте, мне хотелось вам сказать... что я сейчас буквально не имею ни копейки...
Несколько дней спустя я свиделся с ним в последний раз. Мне хотелось бы привести из нашего разговора одну только фразу. Он говорил мне о своих невзгодах, о невозможности продолжать, вернее, даже начать работать. Я с грустью напомнил ему о зароке, который он налагал на себя, не являться в Париж до того, как окончит пьесу.
— Ах, зачем,— заговорил я,— вы так скоро покинули Берневаль, где вы дали себе слово засесть надолго? Я не хочу сказать, что я вас за это виню, но...
Он перебил меня, положив на мою руку свою и посмотрев на меня одним из самых мучительных своих взглядов:
— Не надо,— сказал он,— винить ч ел о века, которого сразил удар.
Оскар Уайльд умер в маленькой невзрачной гостинице на улице Де-Бо-з-Ар. Семь человек было у него на похоронах; но не все они проводили до конца погребальное шествие. На гробу были цветы и венки; один из них, как мне передавали, был украшен надписью; то был венок от хозяина гостиницы; на нем можно было прочесть: МОЕМУ ПОСТОЯЛЬЦУ.